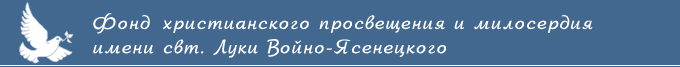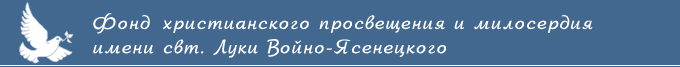Борис Колымагин
Трудный путь
В служении святителя Луки (Войно-Ясенецкого) есть что-то общее с трудами апостола Павла
В этом году исполнилось 60 лет со дня смерти Луки (Войно-Ясенецкого), хирурга мирового масштаба и одного из самых почитаемых святых Русской православной церкви.
Он ушел из жизни 11 июня 1961 года, в День празднования памяти всех святых, в земле Российской просиявших.
Соприкасаясь с жизнью святителя, мы входим в соборный опыт новомучеников, встречаемся с тем немногим подлинным, что осталось от советской эпохи. Одним из элементов этого опыта – умение говорить правду в ситуации тотального контроля над всяким публичным словом. Архипастыря можно назвать перисиастом советского времени.
Кто такой перисиаст? Человек, обладающий даром парессии. С.С. Аверинцев, написавший знаменитую книгу «Поэтика ранневизантийской литературы» (1977), дает такое ее определение: «Парресия – «свободоречие», право говорить перед Богом или людьми без боязни, без робости и смущения. Классическое античное сознание рассматривало парресию как атрибут полноправного гражданина в кругу равных (противоположность – скованность и приниженность раба). Христианское сознание усмотрело в парессии дар Бога, утраченный человеком при грехопадении; только праведник, до конца победивший грех, заново обретает это исконное человеческое первородство».
Разговор о вере в советское время был жестко регламентирован. Открытая проповедь могла произноситься только с амвона. Вне церковных стен она звучала как-то иначе. Полуразрушенные храмы, дела милосердия, художественная литература совершали свою тайную миссионерскую работу.
Перисиаст в советском обществе должен был либо носить маску и прикидываться, что не обладает свободоречием, либо рисковать. Да, внутри общины можно было говорить на религиозные темы, иногда даже осторожно касаться острых вопросов. Но в секулярном пространстве приходилось ходить по тонкому льду. Заметим, что не всякое несение «правды-матки» есть парессия, а только та речь, которая обнажает реальность, открывает глубину. Клирик, который добивается голой правды, из-за неразумия может подставить всю общину, цена слова велика.
В Русской православной церкви перисиастов было немного: годы гонений давали о себе знать. Когда на исторической встрече в Кремле в 1943 году трех иерархов с «вождем всех народов» речь зашла об открытии семинарии, Сталин, как бы по наивности спросил: «Куда же все священники делись?». Будущий патриарх Сергий (Страгородский), если бы сказал известную и ему, и коммунистическому руководству правду, не добился желаемой цели – легализации церковной жизни. Вопрос Сталина был в другом – лоялен ли ты советской власти, которая вдоволь поиздевалась над Церковью. Сергий поспешил выказать свою лояльность. «Бывшие семинаристы стали революционерами, вот и нет священников». Такой, как гласит легенда, был его ответ. Это не было словом перисиаста.
Святитель Лука перед лицом коммунистической власти вел себя немного иначе, хотя и не лез на рожон. Многие его высказывания резко диссонировали с официальной точкой зрения. Например, в беседе с уполномоченным Совета по делам Русской православной церкви (СДРПЦ) он говорил, что во время событий 1956 года в Венгрии было много пролито крови невинных людей.
При вручении Сталинской премии сказал, что сделал бы для страны гораздо больше, если бы его не гоняли одиннадцать лет по тюрьмам и ссылкам. Но, критикуя власть, архиепископ не заходил дальше определенных границ. Он понимал важность сохранения легальных богослужений.
Конечно, Лука должен был учитывать существующие правила игры и отрабатывать боковые для Церкви сюжеты идеологии. Святитель говорил немало «патриотических» в советском смысле этого слова речей. В то же время внутренне он не считал себя «соглашателем», хотя порой его речи транслировали исключительно господствующий дискурс без всякой поправки на реальное положение дел. Что ж удивляться, что некоторые прихожане стали считать его ставленником власти.
Скажем, 19 января 1947 года, на Богоявление, Лука выступил с проповедью: «Ни в одном государстве в различных постановлениях, распоряжениях и законах так не проявилась правда Божия, как в постановлениях и решениях Советского правительства». И дальше он заговорил о советских мирных инициативах, о сокращении вооружения и о контроле над атомной энергией. Повторил многие штампы советской пропаганды, чем вызвал недовольство части верующих. Среди верующих Симферополя было немало интеллигенции. Слова Луки о правде Божией в отношении деяний власти вызвали недовольство. «Неужели и он продался НКГБ?», – спрашивали себя прихожане.
Этот вопрос, публично никогда не озвученный, дошел до Луки. И вот как он на него ответил в одном из частных разговоров: «Не так давно я узнал, что некоторые прихожане считают меня за красного архиерея и что у меня даже печать красная. Это потому, что они меня не видят и не слышат. На самом же деле я в своих проповедях всегда осуждаю безбожников».
Особого слова заслуживает отношение архипастыря к И.В. Сталину. Казалось бы, о чем здесь говорить – они антиподы: один был жертвой, другой палачом. Один страдал за веру, другой пытался ее искоренить. И даже в первые послевоенные годы, в период «сталинского возрождения» религия оставалась под жестким прессом атеизма. В то же время святой согласился принять Сталинскую премию, в проповедях призывал чтить «вождей народа нашего» и в частных разговорах не позволял себе негативных высказываний о генералиссимусе. Напомним также, что 21 декабря 1949 года, в день 70-летия «вождя всех народов», в Крыму по распоряжению Луки совершались торжественные молебны.
Конечно, все это можно объяснить заботой архипастыря об интересах Церкви и его осмотрительностью. Он считал, что сталинизм – это надолго, очень надолго. И верующим нужно находить свою нишу в советском обществе, становиться его органической частью. Что же касается Сталина, то можно не сомневаться в том, что если бы «эффективный менеджер» покаялся в своих злодеяниях, то святой заключил бы его в свои объятия.
Но в том-то и дело, что тот до конца оставался прагматиком и ни у кого прощения не просил. А раз так, то и простить его невозможно. Потому что прощать в данном случае могут только жертвы.
Вернемся, однако, к нашему разговору о парессии. Она проявлялась не только на встречах со светскими властями, но и в публичных жестах: в хождении в рясе по городу (тогда это не было принято), в молитве перед операцией (что точно запрещалось), в беседах с врачами-атеистами. Но особенно ярко она обнаруживалась во время церковных проповедей.
Сохранились немногочисленные магнитофонные записи проповедей Луки. Сострадание к труждающимся и обремененным и в то же время покой и величие звучат в его голосе. Это певучая, захватывающая манера речи, широкое дыхание, властные речевые практики.
Его обаяние порой убеждает в истине христианства сильнее других свидетельств. В убедительности его слова заключается самая поразительная особенность его богословия. На амвоне он превращается в пророка, ведущего «малое стадо» в прекрасную страну. Он звал туда всем своим обликом, духовной подлинностью.
Его слова вырастали из всего строя богослужения, из радости Присутствия и предстояния перед алтарем. Почвой, на которой стоял святитель, было русское православие. По словам о. Александра Шмемана, «это почти неуловимое, от слов и определений тускнеющее и увядающее, сочетание всего того, что Федотов называл «кенотизмом» («в рабском
виде Царь небесный…») с радостным, подлинно пасхальным «космизмом», с какой-то почти нежностью к творению Божьему. То, что каждый русский интуитивно чувствует и любит в белом, радостном образе «убогого старца Серафима», что совершеннее всего воплотилось в русской иконописи и храмостроительстве, в русском церковном пении, в русской «рецепции» византийского богослужения».
Владыка Лука любил православное богослужение, мог литургисать даже при пустом храме и говорить проповедь двум-трем старушкам. Сохранилось немало описаний вдохновенной службы Луки. Их оставил даже враг Церкви, уполномоченный СДРПЦ: «Когда началась архиерейская служба, церковь была полна молящимися до отказа, даже на паперти был народ. Из алтаря епископа вели под руки два диакона, вслед шли священники и поставили Луку около паперти. Прислуживали два мальчика в церковных одеждах и старушка. Мне кажется, что вид престарелого, слепого, беспомощного архиепископа произвел на верующих сильное впечатление. Священники,
протодиаконы и хор служили до самозабвения».
Особенно знамениты критические речи Луки – его послевоенные выступления в кафедральном соборе Симферополя о вере и атеизме. Сотрудникам патриархии Лука рассказывал о своей проповеднической деятельности: «Слушают, затаив дыхание. Сколько подростков окружают меня! Сколько комсомольцев и комсомолок причащаются! Сколько интеллигенции приходит послушать меня! Я объясняю Евангелие и Апостольские послания. В них есть немало того, что неприятно неверующим, – но я ничего не пропускаю из Слова Божия и считаю, что я должен говорить не только приятное, но и неприятное, чтобы заставить людей задуматься над тем, куда они идут. Я, например, говорю об идеализме и материализме. Конечно, я характеризую материализм с надлежащей стороны, как ни горько это слушать атеистам… Я знаю, что моя церковная карьера кончилась, что не дадут согласия на мой перевод на лучшую кафедру, так как понимают, что я умею возбудить весь город. Но я не ищу церковной карьеры, как перестал искать карьеры и медицинской. Мне не много остается жить. Медициной я не занимаюсь, потому и хочу каждый день своей жизни отдавать на служение Богу и делу проповеди о Нем. Для меня теперь вся жизнь – в массах, стоящих передо мной и жадно вбирающих в себя мои слова».
Разговор о вере и атеизма был на грани дозволенного. И светские чиновники руками чиновников церковных добились его прекращения. Но Лука не отказался от скандального по советским меркам поведения. Так, в разгар гонений на «космополитов» он произносит проповедь «Почему Богородица была еврейкой». Политический контекст этой речи, как говорится, лежит на поверхности.
В служении святителя Луки есть что-то общее с трудами апостола Павла. Ситуация, в которой он действовал, ставила его во вполне определенные обстоятельства. Вслед за Павлом он мог сказать: «Сила моя в немощах совершается». Как и у апостола, его призвание было не крестить, а благовествовать. Его проповеднический дискурс (большинство проповедей святителя традиционны: пересказ евангельского текста и какие-то богословские и житейские выводы) направлен на утверждение воскресения как События, значимое для всех. В СССР дискурс последовательного рассказа, подкрепленного повествованием о знамениях и чудесах, исчезнул. Он стал неубедителен. В условиях гонений на религию те случаи, которые опознавались верующими как чудеса, для неверующих были всего лишь стечением обстоятельств и не выступали в качестве доказательств.
Дискурс посланий апостола Павла – это особый способ говорения о вере. Павел просто свидетельствует о Событии. И Лука занимается тем же. Он говорит о воскресении, о свете в конце туннеля. И сегодня, вспоминая его образ, мы видим тот трудный и радостотворный путь крестоношения, который он совершил ради невечернего света.
|